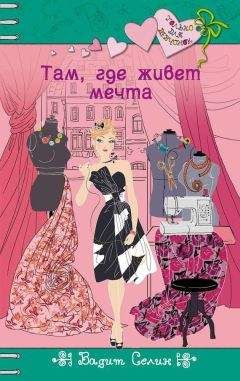— Как вы можете позволять себе такое, мадам?
— Я т-тебе позволю! — легко отбилась женщина, приземистая, широкозадая, в дряхлой цигейковой шубке.
— Откуда в тебе столько ненависти, тетя? — вдруг на весь магазин заорал Гурин.
— Я т-тебе покажу ненависть! — отвечала та, со стуком выставляя на прилавок пустые бутылки из сумки.
— Прощай, тетя! Не увидимся больше! Уезжаю от тебя в дальние края! — выкрикивал, войдя в раж, Гурин.
— Видали, племянник! Проваливай! — сердито, но уже без злобы в голосе гудела женщина.
Кто-то в очереди засмеялся, кто-то, проходя мимо, хлопнул Турина по плечу, дохнув на него горячим перегаром, хрипло прокричал ему в самое ухо:
— Прощай, мадонна моя!
С двумя бутылками в карманах Гурин вернулся домой и впервые ступил за порог комнаты, в которой жил холостяк Петр Акимович с сиамским котом Клаусом. Когда Гурин вошел, палевый кот с черной головою стоял на стуле на задних лапах и, поставив передние на подоконник, глядел на улицу. Обернувшись, он на секунду уставился в глаза Турину своими загадочными глазами, затем снова уткнулся носом в окно.
В компании со старым соседом и с его Клаусом Гурин и провел последние три-четыре часа до того, как ему надо было отправляться на аэровокзал. Втайне Гурин ждал, прислушиваясь, что вернется Елена и все-таки проводит его. Но лишь вернулась с работы Сима, пожилая девушка, третья жилица коммунальной квартиры, а жена так и не пришла.
Запомнил Гурин несколько странных вещей в холостяцком жилье соседа, например, недействующий старинный камин, в очаге которого стояли мешок с картошкой и огромная пустая запыленная бутыль. Хозяин все похмыкивал да покашливал, с неопределенным смущением отвечая на всякий простой вопрос, и его скуластенькое крепкое лицо все более краснело, разгораясь от вина. Оказалось, что он мор ж, то есть купается всю зиму, даряя в прорубь со льда, и ходит босиком по снегу. Все это Гурин увидел на фотографиях, которые показывал ему хозяин. Вот откуда были эти крутые плечи и браво развернутая широкая грудь седовласого старика чертежника. Но поразил он, главное, Турина не этим: а стояла на каминной полке у него странная вещь, похожая на спортивный кубок из голубоватого фаянса, и Гурин сначала так и думал, что это приз Акимычу за его «моржовые» успехи, но на самом деле оказалось — урна с прахом брата. Точно, урна с запечатанной крышкой, с парою лепных веночков, символом траура и печали.
— Что за чудеса, Петр Акимович?
— Никаких таких чудес… Км-хм.
— И сколько лет стоит здесь?
— Да… Семнадцать лет уже.
Братья были дружны, после войны поселились в этой комнате вместе, точнее — больной брат переехал к нему, потеряв в блокадном Ленинграде семью. Жалея брата, Петр Акимович, к тому времени заматерелый холостяк, так и не женился.
— Но зачем же дома держать, Петр Акимович? — подивился Гурин. — Ведь есть же, как их называют… колумбарии?
— Есть-то есть, а дома лучше.
— Чем же лучше?
— Не надо, знаете ли, далеко ездить, км-хм…
— Петр Акимович! Дорогой человечище! Да кто вы такой, скажите мне наконец! — распаляясь, кричал Гурин. — Кто вы? Чудак? Эксцентрик? Святой? Философ?
— Да уж куда до святости… Много грешен…
И вдруг словно огненный круг обозначился перед мысленным взором Турина. Этот круг был ясен и отчетлив. Таким бывает огненное кольцо, вспыхивающее над ареной затемненного цирка, и сквозь этот пламенный круг должен прыгнуть лев…
Гурин представлял, как глухо рокочут барабаны, нагнетая напряжение, — и в тот миг ничего другого вокруг не бывает, кроме этого огненного кольца, сквозь которое должен мягко прыгнуть лев. Так и сейчас — ничего в мире вроде бы не осталось, кроме одной суровой и беспощадной мысли: ты ведь ничего не знаешь о них. Как ты мог жить среди людей, желать себе чего-то, вслепую тыкаться головою в беду, а потом жаловаться — и никогда не пытаться узнать что-нибудь о них. И Турину, охваченному страхом своей беспомощности и потерянности перед громадой жизни, куда предстояло ему вторгнуться, хотелось немедленно бежать, бежать, вот хотя бы к соседке Симе и попытаться наспех Добыть от нее то необходимое человеческое знание, без которого актер Гурин в этом мире столь уязвим и беспомощен…
Тут вспрыгнул ему на колени сиамский кот с черной дьявольской головою, уставился голубыми глазами на него. А затем, в маразме каких-то низменных звериных побуждений, Клаус принялся выпускать острые когти и драть ему ногу сквозь брюки. Гурин невежливо сбросил кота с коленей и, склонившись к столу, сжал руками голову. Страшно было и виновато в душе, что, прожив среди людей тридцать с лишним лет, он никогда по- настоящему не пытался узнать их. И эта вина, этот страх были сильнее всего сейчас, сильнее даже, чем его конкретная сиюминутная беда. Поэтому, когда Петр Акимович спросил у него, почему он расходится с женою, Гурин даже не переживал то, о чем равнодушно говорил:
— Мало, Акимыч, зарабатываю. Она зарабатывает в два раза больше. Нет основы для взаимного уважения. Я для нее постепенно стал тем существом, которым, Акимыч, не только пренебрегают, но которое подвергают постоянному унижению и стыдятся даже упоминать его имя в кругу своих знакомых…
И после, добираясь в метро до «Динамо», а там далее на маршрутном такси до аэровокзала, Гурин не терзался мыслями о жене. На какое-то время он словно совершенно забыл о самом больном и невыносимом, или, может, сознание автоматически отключило все это больное и невыносимое, чтобы он мог с любопытством и вниманием отнестись к перипетиям начинающегося путешествия: регистрации билетов, посадке в рейсовый автобус, к долгой дремотной езде на аэродром — сначала сквозь гудящий хаос нагромождений вечернего города, а затем по смутным дорогам пригорода, через пустыри заснеженных полей и мимо темных поселков. Далее были посадка на самолет, и стюардесса с осиной талией с традиционной улыбкой, смачная девица, и ремень был пристегнут на животе, и мятная конфетка во рту… Вспомнилась Елена некоторое время спустя, когда Гурин, уже летя в восточном направлении, уснул в кресле да вдруг проснулся от духоты.
Он протянул вверх руку и вкрутил струевой вентилятор, направив его жерлице точно на себя. Только что ему снилось, что любовником его жены (о наличии которого она похвалялась) был не кто иной, как его приятель и сослуживец по театру Рамзес Юртайкин, актер на характерные роли. Охладившись под вентилятором, Гурин окончательно пришел в себя и подумал, что надо было, наверное, поговорить с Юртайкиньм, чтобы тот, в свою очередь, рассказал в дирекции о подлинных мотивах его ухода из театра. Впрочем, решил Гурин минуту спустя, не все ли равно. Ведь ничего не изменится, если актер Гурин ушел в небытие подобным образом: тихо, без всяких объяснений, унося в сердце своем все свои обиды.
И тут уж печаль навалилась на него как следует. Он знал, что человек за чужую жизнь не ответчик, дай бог справиться со своей собственной как надо, и все же, вспоминая жену, Гурин испытывал почти физическую боль вины и раскаяния. Эта боль совести гнездилась там, где барахталось сердце, двигатель его собственной жизни. Главную причину отчаянной ненависти Елены к нему Гурин знал. Причина эта была не только в том, что ей пришлось всю молодость пробедствовать с ним, маленьким актером, и принести напрасные жертвы ради его карьеры, которая так и не состоялась… А в том, что он съел, сожрал вместе с ее молодостью и саму основу ее надежды — главную ставку, которую она ни в коем случае не хотела проиграть. Называлось это у нее любовью. Но Гурин не мог любить женщину, которая давно уже зарабатывала больше его и тем открыто гордилась, и мало того — Елена решила захватить власть силой, а сила ее опять-таки заключалась в том, что ее зарплата старшего инженера была вдвое больше, чем у него. Она кормила, она одевала, торгашка-мама время от времени щедро орошала из своей мошны ее поле, на котором выросли скоро все необходимые для житейского счастья плоды. И как раз в это время Гурин забастовал. Начался разлад из-за сына, которого жена решила записать в школу фигурного катания, а теща — в музыкальную. И, несмотря на протест Турина, вернее, благодаря этому протесту, бледный, слабенький сын понес муку и там и там. Словно саркофаг будущих музыкальных неудач сына, встал в углу комнаты черный ящик пианино, которое вкатила перед собою дюжая теща. Потом, когда Гурин забунтовал вовсю и даже выкинул в форточку высокие ботиночки с маленькими коньками для фигурного катания, теща, чтобы того же не случилось с дорогим инструментом, укатила его обратно, заодно прихватив с собою и внука, который на все скандалы вокруг своей персоны реагировал вялым взглядом, молчанием, насморочным сопением да изредка кашлял, высунув язык, — опять простудился в саду. Потом вся эта баталия надоела Турину, к тому же Елена стала поговаривать о танцевальном кружке, а Гурин стал ночами не спать, думая о гибели и спасении, об ушедших снах юности и умопомрачительных заботах нынешней поры, и однажды решительно заявил, что питаться будет отдельно, на свой бюджет… А теперь подошла пора и уходить из этого сна — не сна, фарса или трагедии, дряннейшего спектакля, режиссер которого впал в глубокий идиотизм. И Юрий Гурин ушел, так и не облегчив чем-нибудь ненависти Елены, а теперь она пытается найти это облегчение с другим, но, видимо, не очень-то успешно, несмотря на свою похвальбу. Гурин понимал, что любовники у Елены и на самом деле могли быть, однако, хорошо зная ее, он видел, что ей от этого только хуже. И она ненавидела его еще и за то, что знала, что ему известно все, и он, все зная, не только не пытался как-то помешать, помочь, спасти ее, но как бы молчаливо соглашался и содействовал ее падению. Ибо она, татарка, выросшая в деревне с вековыми устоями, с мусульманскими представлениями о догробовой верности мужу, не могла принять распутства. Впрочем, думал Гурин, что я знаю о татарской деревне, об устоях ее, может быть, там тоже победила сексуальная революция и девицы лишают невинности последних перепуганных батыров… Просто она ненавидит за то, что он не тот, который ей нужен в жизни, и в то же время так вышло, что именно тот единственный, который мог бы стать им, — потому что он первый. «Она проиграла, а я, который ничего не выиграл в данном случае, оказался причиной ее проигрыша, вот в чем горе», — думал Гурин.
![Анатолий Ким - Будем кроткими как дети [сборник]](https://cdn.my-library.info/books/149231/149231.jpg)